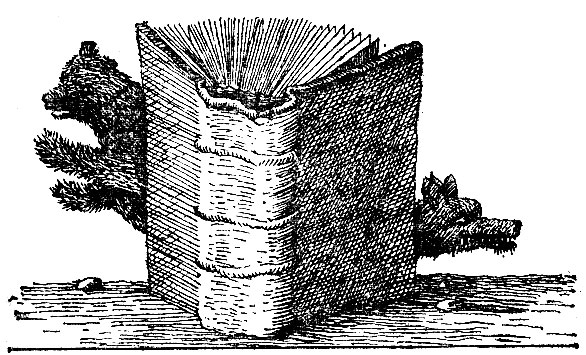Лютый зверь что это такое
Лютый зверь что это такое
Сэм Стюбнер просматривал свою корреспонденцию быстро и небрежно. Как и полагается менеджеру профессионального бокса, он привык к самым разнообразным, самым диковинным письмам. Казалось, не было того чудака спортсмена, любителя бокса или фантазера, который не пытался бы навязать ему свои выдумки. Сэм знал наизусть всю ту нелепую чепуху, какая попадалась ему почти в каждой почте. То это были угрозы — от самой мрачной: покончить с ним раз и навсегда, до более миролюбивой: просто разбить ему морду, — то всякие талисманы — от кроличьей лапки до счастливой подковы, то безответственные предложения каких-то незнакомцев,
— начиная от заключения пари на незначительные суммы до ставки в четверть миллиона долларов. С тех пор как он однажды получил ремень для правки бритв из кожи линчеванного негра и сморщенный, высохший на солнце палец белого человека, чей труп нашли в Долине смерти, Сэм считал, что вряд ли почтальон сможет еще чем-нибудь удивить его. Но в это утро ему попалось такое письмо, что он перечитал его дважды, сунул в карман, затем снова вытащил и перечитал в третий раз. На штемпеле стояло название какого-то совершенно неизвестного почтового отделения в округе Сискью, а в самом письме было написано вот что:
Вы меня не знаете, разве что по имени. Пришли вы на ринг, когда я уже давным-давно выбыл из игры. Но я от жизни не отстал, верьте слову. Я и за спортом следил и за вами лично с того матча, когда вас нокаутировал Кэл Оуфмен, до вашей последней встречи с Натом Белсоном, и, по-моему, другой такой менеджер, как вы, еще не родился на свет.
И вот я хочу предложить вам одно дело. У меня есть небывалый, замечательный боксер. Я не выдумываю. Тут все чисто, без обмана. Представьте себе силача весом побольше двухсот двадцати фунтов, от роду двадцати двух лет, и с таким ударом, какой мне и в лучшие мои годы не снился. Это мой собственный сын, Пат Глендон-младший, — пусть под таким именем и выступает. Я все обдумал и решил. Самое лучшее, садитесь сейчас же в поезд и приезжайте скорей к нам.
Вот говорят: «Надежда белых» note 1. Это про него. Приезжайте, сами посмотрите. Помню, вы любили поохотиться, еще когда разъезжали с Джеффрисом. Приезжайте, и я вам тут устрою такую охоту, такую рыбную ловлю, что перед ними всякие ваши киносъемки побледнеют. Пошлю с вами Пата-младшего. Я-то уже не ходок, потому и вызываю вас сюда. Сначала я сам собирался вывести его на ринг, но ничего не выходит. Я совсем сдал, видно скоро мне нокаут. Так что поторапливайтесь. Хочу передать его вам. Для вас обоих это дело — клад. Только уж контракт я составлю сам.
С уважением, ваш П а т Г л е н д о н».
Стюбнер не знал, что и подумать. С первого взгляда все это было очень похоже на попытку разыграть его, — боксеры, как известно, великие шутники, — и, вчитываясь в письмо, он пытался разглядеть в нем тонкий почерк Корбеттаnote 2 или тяжелую добродушную лапу Фитцсиммонса. Но если письмо не подделка, то стоило им заняться, — это было ясно. Пата Глендона он уже не застал среди боксеров, хотя однажды, еще совсем мальчишкой, он видел, как Пат тренировался с Джеком Демпсеем. Его и тогда уже звали «Старый Пат», и он уже давно сошел с ринга. Он появился еще при Салливене и начал выступать, когда в ходу были лондонские правила бокса, и только на исходе своей карьеры он уже дрался по новейшим правилам маркиза Квинсберри.
Да разве был хоть один любитель бокса, который не слышал бы о Пате Глендоне? Конечно, теперь мало осталось людей, видевших его в расцвете славы, да и тех, кто вообще видел его, уже осталось немного. Однако его имя вошло в историю бокса, и не было справочника, где бы оно не упоминалось. Правда, слава его была какая-то необычная. Он был в чести как никто другой, но ни разу не стал чемпионом. Ему очень не везло, и его считали боксером-неудачником.
Таков был Пат Глендон. Стюбнера смущало только одно: кто написал письмо — Пат или не Пат? Он захватил письмо с собой на работу. «Где Пат Глендон и что с ним сталось?» — спрашивал он в это утро у всех спортсменов. Но никто ничего не знал. Некоторые думали, что Пат умер, хотя наверняка никто этого не утверждал. Редактор спортивного отдела одной из утренних газет просмотрел свой архив и не нашел никаких сообщений о смерти Пата. Узнал Стюбнер о нем только от Тима Доновена.
— С чего ему помирать? — заявил Доновен. — Разве такой помрет, с его силищей, да еще если он не пил и вообще жил тихо, мирно. Он много зарабатывал и зря денег не мотал — все копил и выгодно пускал в оборот. Знаете, сколько у него было салунов? Целых три! А какую кучу денег он за них получил! Погодите, вот тогда-то я и виделся с ним в последний раз, — когда он все распродал. Лет двадцать, а то и больше. Жена у него только-только скончалась. Мы встретились у парома. «Ты куда, старина?» — спрашиваю. «Подамся в леса, говорит. Я все бросил! Прощай, говорит, Тим, дружище!» Больше я его с той поры не видел. Но жив-то он безусловно!
— Говоришь, у него жена умерла? — спросил Стюбнер. — А ребята у него были?
— Был один, совсем еще маленький. Он его нес на руках, когда я его встретил.
Вот тут-то Сэм Стюбнер и решился окончательно и вечером уже летел курьерским в самую глушь Северной Калифорнии.
Ранним утром Сэм Стюбнер соскочил с поезда на глухом полустанке Дир-Лик и целый час околачивался на улице, пока не открыли единственный местный салун. Нет, хозяин заведения ничего не знал о Пате Глендоне, даже и не слыхал о нем. Наверно, живет где-нибудь в горах, если вообще тут есть такой. И случившийся тут же завсегдатай салуна ничего не слыхал о Пате Глендоне. Не знали о нем и в гостинице. И только когда открылись почта и лавка, Стюбнеру удалось напасть на след. Конечно, Пат Глендон живет тут, только бог знает где! Надо ехать сорок миль дилижансом до Олпайна — это лагерь дровосеков, от Олпайна, верхом, по Антилопьей долине, а там, через перевал, к Медвежьему ручью. Где-то за ручьем и живет этот Глендон. В Олпайне вам скажут, где. Да, есть и сын, тоже Пат. Лавочник его видел. Он приезжал в Дир-Лик года два назад. Старого Пата уже лет пять не видно. Бывало, покупал все припасы в лавке и платил чеками. Седой такой старик, чудаковатый. Больше лавочник ничего не знал, но сказал, что в Олпайне ребята направят Сэма куда надо.
Лютый зверь
Полемика о том, что это за «лютый зверь», не прекращается на протяжении многих лет. Его отождествляли со львом, тигром, медведем, гепардом, волком, рысью. Есть также точка зрения, что это — собирательный образ, хотя трудно поверить, чтобы собирательный образ чуть было не загрыз отважного князя на охоте.
Понятие «лютый зверь» в домонгольской Руси употреблялось в двух смыслах. Во первых, описательно, для характеристики зверя, который, действительно, был лют. Например: «лютый зверь крокодил». В других случаях понятие применялось как видовое название конкретного животного. Какого?
В другом значительном памятнике древнерусской книжности «Повести временных лет» в рассказе об искушении печорского инока Исакия сказано, что бесы, мучившие его, принимали образы «медведя, лютого зверя, вола, змеи, мыши и всяких гадов».
В «Поучении» нет слова «рысь», что дало основание некоторым историкам предположить, что таинственный зверь и есть рысь. Это»» животное редкое, опасное и обычно прыгает на свою добычу. Однако при собственном весе в 15 килограмм оно не смогло бы сбить всадника с конем. Даже упав с лошади, опытный и вооруженный воин, каковым был Мономах, мог и без Божьей помощи отстоять жизнь в схватке с рысью. К тому же сообщать, что молодого и сильного князя чуть не растерзала рысь, было, с точки зрения феодального этикета, непристойно.
Приведенные характеристики наиболее полно соответствуют такому представителю семейства кошачьих, как леопард. Джон Хантер — известный английский охотник и писатель — утверждал, что леопард — самое опасное животное в Африке. Средневековый арабский писатель Усами ибн Мумкыз приводит пример мощи прыжка леопарда. Однажды во время охоты леопард прыгнул на рыцаря в кольчуге, сидевшего на боевом коне. В результате рыцарь погиб, поскольку леопард сломал ему спину.
Могло ли животное, характерное для южных районов, обитать в черниговских лесах? Адаптироваться к климату этих мест леопард мог. Его близкий родственник — снежный барс — живет в горах, где бывают сильные морозы. Интенсивный обмен веществ, свойственный кошачьим, позволяет ему сохранять активность при очень низких температурах. Обычная домашняя кошка выдерживает температуры ниже минус 100 градусов! Тигры живут на Дальнем Востоке, где бывает относительно холодно. Описаны случаи захода уссурийских тигров даже в Якутию.
Обилие травоядных животных на территории южной России могло обеспечить пищей крупную кошку. Палеонтологический материал подтверждает высказанную гипотезу. Кости леопардов обнаружены, в частности, в Крыму, под Феодосией. Кости встречаются в слоях, относящихся к позднему средневековью. От Крыма до Черниговщины — несколько сотен километров, причем на этом расстоянии нет естественных серьезных преград для леопарда.
Разумеется, окрестности Чернигова были окраиной ареала хищника, крупные хищники всегда малочисленны. Тем не менее встреча с леопардом под Черниговом была возможной и, видимо, один раз в жизни Мономаха она состоялась.
До XV века в русском языке не было слова «леопард», оно пришло к нам из Западной Европы и постепенно вытеснило понятие «лютый зверь» Последнее стало применяться только в качестве описательной характеристики всех «лютых», сильных и злых зверей. К этому времени северная граница ареала леопарда сместилась к югу, животное стало восприниматься как заморское, соответственно, требующее иностранного названия.
Итак, с большой вероятностью можно утверждать, что в домонгольское время на Руси «лютым зверем» называли леопарда, считают зоологи из Санкт Петербурга Б. и В. Сапуновы.
Кто ты, «зверь лютый»?
«Тура мя 2 меташа на розех и с конем, олень мя один бол, а 2 лоси, один ногами топтал, а другый рогома бол, вепрь ми на бедре меч оттял, медведь ми у колена подъклада укусил, лютый зверь скочил ко мне на бедры и конь со мною поверже».
Вы, как мне кажется, вполне справились с прочтением слов, вынесенных в эпиграф… Я думаю, справились, во всяком случае их общий смысл человеку, владеющему любым из восточнославянских языков, будет понятен.
Поясним. Это Владимир Мономах в «Поучении» своим детям рассказывает о правилах и способах охоты, принятых в те темные времена.
Неплохо, правда? В течение небольшой охотничьей карьеры полетать на рогах (причем вместе с конем) двух туров, быть битым лосями, пострадать от вепря и медведя. Да, был «элемент неожиданности» и особый «перчик» в охотах тех времен. Не зря охоту считали наилучшей подготовкой юношества к реальной войне. Причем заметьте – все это не выезжая за пределы нынешней Черниговской области.
Об охоте в первые десятилетия зарождения государственности на наших землях мы обязательно поговорим еще, о турах – древних лесных быках, размером сравнимых с современным зубром, тоже обязательно расскажем. Но сегодня же речь о другом.
Давайте-ка еще раз перечитаем слова, вынесенные в эпиграф и отметим, каких зверей перечисляет Мономах. Итак: двух туров, двух лосей, вепря, медведя и наконец – «лютого зверя». Как вы думаете, какое из известных тогда животных Владимир Мономах называет этим зловещим именем?
Скажу сразу: все наши сегодняшние рассуждения (прямо скажем, рассуждения начитанных дилетантов) не имеют никакого научного веса, однако порассуждать нам никто не запретит, не правда ли? Поэтому давайте порассуждаем.
Некоторые исследователи считают, что под «лютым зверем» князь Владимир подразумевал некий собирательной образ опасной и хищной лесной твари. Вместе с тем мы видим, что в «Поучениях» он четко перечисляет тех зверей, с которыми ему довелось столкнуться. В частности, медведя – одного из самых свирепых лесных хищников, если верить мнению упомянутых ученых; непонятно, с какой стати Мономах медведя выделил, а всех остальных известных ему зверей свел к общему знаменателю под видом «лютого». То есть, очевидно, что «лютый» – это не какой-то обобщенный образ, а вполне реальный зверь – предмет изучения науки зоологии.
Другие ученые, без всякого сомнения, отождествляют «лютого зверя» с волком. Сразу чувствуется, что эти ученые имеют к биологии, и тем более к охоте, весьма условное отношение. Однако мы-то с вами знаем, что волк не из тех хищников, который может найти в себе силу и смелость сойтись один на один с конным воином, более того – вскочить ему на бедра.
Оберег XII–XIV вв., называемый «рыська», или «коник», изображающий зверя лютого
Упоминается «лютый» и в «Слове о полку Игореве», причем в таком контексте, что и сторонники идентификации нашего зверя как волка найдут в этих словах подтверждение, и противники также подтверждение найдут! Вот, судите сами, и ответьте себе на вопрос: волк ли подразумевается в «Слове»: «Скочи отъ нихъ лютымъ зверем… скочи вълком до Немиги».
В общем, про крокодила в реке Великой я не верю, хоть и прочитал это вместе с вами. То ли летопись поддельная (что вполне может быть), то ли летописец фантазер, то ли словом «коркодил» называли кого-то еще.
Может быть, рысь? Есть историки, которые склоняются к версии рыси. Однако, на мой взгляд, слишком мелковата эта кандидатура как на звание «лютого», так и на то, чтобы завалить всадника вместе с конем. А если и завалила, как я уже писал, конь может шарахнуться вбок от страха и упасть, то это не повод для князя хвастаться на этот счет в «Поучении» своим детям.
Наши предки были народом неглупым. В дохристианские времена духовная жизнь наших предков была не менее богата и насыщенна, чем во времена после крещения. Да и крещение во многих уголках территории, которую нынешние историки условно называют Древней Русью, было чисто номинальным: люди продолжали верить своим поганым богам и исполнять свои поганые обряды («поганые» от латинского слова pagani, что означает «язычники»). В частности, большой популярностью пользовались разного рода амулеты, которые носились у пояса, на специальной связке, или на шее, или на поясе. Каждый амулет помогал от чего-то своего, особого.
Скажем, миниатюрная ложечка берегла носителя от голода, маленький меч, топорик или молот приносили успех в бою и торговле, якорек берег женщину от походов «налево», медную рыбку носили рыбаки. Ну и так далее. Все эти предметы являют собой несколько стилизованные копии предметов реальных, но вместе с тем они были совершенно узнаваемыми. Ложку вы не перепутаете не то что с рыбкой, но и с половником, а молот с топориком.
Наряду со всеми амулетами-привесками существует специальный оберег от «зверя лютого», который носили все мужчины – воины и охотники – и который и в наше время нередко можно отыскать на местах древних поселений.
Есть несколько подобных амулетов и у меня в коллекции. Обратите внимание: в фигурке легко узнаваем зверь семейства кошачьих! Рысь? Ни в коем случае! Взгляните на шикарный хвост: у рыси он куцый и неказистый.
Исследователи сломали много копий, пытаясь определить по оберегу, кем же был зверь лютый на самом деле.
Перстни, найденные на современных территориях Беларуси, Украины и России, датируемые XV-XVI вв. с каноническим изображением зверя лютого
Более всего склонялись ко льву или тигру. Да-да, климат Черниговщины ничуть не суровее климата Хабаровского края, где тигры отлично живут и размножаются, если им не мешает человек. Ну, а останки доисторических львов, которые жили по всей Европе, находят до сих пор.
Теоретически вполне может быть, что наш князь встретился в черниговских лесах с одним из последних зверей одного из этих видов, забредших за границы своего ареала распространения. Относительно Центральной Европы сказать ничего не могу, однако на Балканах и Южном Кавказе львы водились еще каких-то 700–800 лет назад. А сколько там от Кавказа до Украины? Три сантиметра на глобусе.
Однако изображение не льва и не тигра мы с вами рассматриваем. Если бы это был лев, то средневековый резчик литейных форм всенепременно изобразил бы его с гривой (гляньте на геральдические изображения львов), а тигра – с полосами на теле.
Но на наших фигурках нет ни того, ни другого, однако обратите внимание на круги на его теле. Круги эти встречаются примерно на пятидесяти процентах найденных привесок. Ученые называют их «солярными знаками», которые для каких-то культовых целей были нанесены на тело зверя. Одни ученые сказали, другие согласились.
Но мы-то с вами не ученые, уважаемый читатель! Мы-то с вами думать умеем: а не только слепо доверять авторитетам! А может быть, это не солярные знаки вовсе? Может быть, это изображение пятен на шкуре зверя? Изображение пятен на шкуре леопарда?
Проверим нашу версию? Сейчас это делается легко. Смотрим ареал распространения леопарда. До мест, где произошли описываемые события, не доходит. Но не доходит совсем немного!
Если фламинго, курчавый пеликан и пустынная птица – розовый скворец – иногда залетают на территорию Беларуси, если лет 17 назад в Витебской области зафиксирован заход росомахи, то почему бы в 1117 году на Черниговщину не мог забрести леопард?! Мне кажется, мог и – более того! – забредал он туда неоднократно. Не настолько часто, чтобы дать ему свое, особое имя, но и довольно нередко, чтобы знали его жители как «зверя лютого» и отливали обереги, внешне его напоминающие. Причем обереги с ярко выраженными концентрическими пятнами на шкуре.
Из истории слов и выражений
Что же такое «лютый зверь» у Владимира Мономаха? (Т. А. Сумникова)
Т. А. Сумникова, кандидат филологических наук
Великий князь киевский Владимир Мономах (1053-1125 гг.), вошел в историю как энергичный, предприимчивый, отличающийся военными доблестями, гуманный и широко образованный человек.
Пожалуй, никакое другое место текста не вызывало столь противоречивых толков, как известная фраза со словосочетанием лютый зверь, где Владимир Мономах описывает свои «ловы» (охоты) в бытность черниговским князем:
Итак, кто же скрывается под лютым зверем у Владимира Мономаха?
Рисунок Юлии Гуковой
Рассмотрим «за» и «против» всех называвшихся в литературе животных, обратив при этом внимание на ландшафт и границы Киевской Руси XI-XII веков, на места обитания, особенности и повадки называвшихся животных.
Киевская Русь в целом была лесной страной. Лишь на юге и юго-востоке пролегала лесостепь. На Таманском полуострове располагалось Тмутороканское княжество. Оно было признано «отчиной» черниговских князей. Начиная с 1064 года в нем княжили (с небольшим перерывом) потомки черниговского князя Святослава Ярославича.
Однако ни волк, ни рысь для ситуации, описанной Владимиром Мономахом, не подходят, так как не могут повалить всадника вместе с конем. [Здесь и далее сведения о животных взяты из издания «Млекопитающие Советского Союза» (М., 1968-1970)].
Для отождествления лютого зверя с барсом нужно принять ряд допущений, совокупность которых делает это маловероятным.
Прямых свидетельств пребывания Владимира Мономаха в Тмуторокани в источниках нет, хотя косвенные данные не исключают этого.
В 1078 году Всеволод Ярославич стал великим князем киевским и посадил своего сына Владимира Мономаха князем в Чернигове. На правах черниговского князя Владимир Всеволодович мог наведаться и в Тмуторокань. Наиболее благоприятным для этого можно считать время с августа 1079 года по 18 мая 1081 года, когда Всеволод держал в своем подчинении Тмуторокань, имея там своего посадника.
В журнальной статье он привел следующие доводы: 1) большой размер и вес тигра, в силу чего зверь способен свалить всадника вместе с конем; 2) свидетельство о том, что в середине XIX века жители Приамурья называли лютым зверем или просто лютым бабра, то есть тигра и барса, которых не различали; 3) предположение, что тигр в X-XII веках мог обитать в северном Предкавказье.
Между тем для решения вопроса о северной границе расселения тигров на территории нашей страны в древности оказываются полезными известия древних писателей о Скифии и Кавказе, опубликованные В. В. Латышевым в «Вестнике древней истории» в 1947-1949 годах. В частности, сведения в «Истории» Аммиана Марцеллина о том, что в IV веке нашей эры тигры водились на южном побережье Каспийского моря и заходили в близлежащие районы, то есть обитали там же, где их встречали еще и в XX веке. Сведений о их обитании (равно как и львов) в Скифии и Меотиде (Приазовье) ни у Аммиана Марцеллина, ни у других авторов в публикации Латышева нами не отмечено.
Итак, приходим к выводу, что предложенное в литературе отождествление словосочетания Владимира Мономаха лютый зверь с названием волка и рыси не согласуется с данными зоологии; предположения о льве и тигре не подкрепляются сведениями исторической зоогеографии, а предположение о барсе вызвало бы к тому же необходимость в правке, текста, без чего, как покажем, легко обойтись.
Действительно, бурый медведь обитал в Киевской Руси повсеместно, и для охоты на него не нужно было покидать пределы Черниговского княжества. Размер бурого медведя (до 2 м) и вес (до 300-350 кг) позволяют ему свалить коня вместе со всадником.
Таким образом, особенности древней пунктуации, данные зоологии и исторической зоогеографии позволяют рассматривать словосочетание лютый зверь у Владимира Мономаха как свободное и считать его парафразой к слову медведь предыдущего предложения.
В других текстах словосочетание лютый зверь, достаточно широко представленное в древней литературе, может выполнять к иные функции. См. об этом в ежегоднике «Балто-славянские исследования. 1984».
Рисунок Юлии Гуковой
«Объясните, пожалуйста, значение слова дражирование».
Г. Я. Уваров, Васильсурск
Гримуар
Лютый зверь на Руси и в Скандинавии
Лютый зверь на Руси и в Скандинавии
Непрочитанное сообщение Alberti » Вт фев 06, 2018 5:26 pm
Счастливым образом сохранившиеся в составе Лаврентьевской летописи труды Владимира Мономаха исследовались с самых разных точек зрения, анализировались сотнями самых разных заинтересованных людей с многообразными научными интересами. Однако едва ли какое-либо выражение из текста «Поучения» привлекало к себе столь же сильное внимание, как словосочетание лютый зверь.
Можно образно сказать, что этот лютый зверь, напавший на Владимира Мономаха, успел обрасти за полтора столетия густой шерстью научных разысканий, но мы по-прежнему не в состоянии сказать со всей определенностью, кто же он такой. Вообще говоря, исследовательское желание уточнить и конкретизировать это обозначение вполне оправдано, поскольку у Мономаха словосочетание лютый зверь употреблено в контексте, который подразумевает полную определенность ситуации:
«Тура мя 2 метала на розѣх и с конемъ, олень мя одинъ болъ, а 2 лоси одинъ ногами топталъ, другыи рогома болъ, вепрь ми на бедрѣ мечь оттялъ, медвѣдь ми у колѣна подъклада укусилъ, лютыи звѣрь скочилъ ко мнѣ на бедры, и конь со мною поверже. И Богъ неврежена мя съблюде» [1. С. 251].
Вместе с тем, полтора столетия исследовательских усилий не прошли даром. Чем дальше разворачивается изучение текста «Поучения», тем более этот текст кажется встроенным в книжную традицию, изобилующим прямыми и скрытыми цитатами. Можно сказать, что весь текст Мономаха балансирует на грани предельного автобиографизма и обширной литературной цитации. Строго говоря, лютый зверь под таким углом зрения может трактоваться и как конкретный хищник — будь то барс, тигр, рысь, лев, медведь или волк, и как обобщенный образ хищника, врага охотящегося князя.
Проблема значения интересующего нас словосочетания осложняется еще и тем, что этимология слова лютый не вполне прозрачна, а крут древнерусских текстов, где фигурирует выражение лютый зверь, все же достаточно ограничен. При этом, как кажется, есть возможность посмотреть на функционирование подобной конструкции даже не на двух, а на трех различных уровнях: 1) собственно в «Поучении», 2) в других древнерусских текстах и 3) на скандинавском материале. В последнем случае речь идет, разумеется, не о точном переводе выражения лютый зверь, а о его весьма выразительном, на наш взгляд, эквиваленте со своей собственной, не менее загадочной судьбой.
В настоящей работе мы сосредоточимся более на рассмотрении первого и третьего из выделенных уровней: нас будет интересовать, прежде всего, с одной стороны, употребление данной конструкции в тексте «Поучения» и, с другой стороны, инокультурный материал. Примеры употребления словосочетания лютый зверь в различных древнерусских текстах уже собраны в изобилии в целом ряде исследований. При этом, как кажется, единого взгляда на классификацию и интерпретацию этих данных у исследователей древнерусской литературы так и не сложилось.1
На этом фоне может быть не бесполезен некоторый типологический анализ, позволяющий проследить, как аналогичная или, во всяком случае, очень близкая формула функционирует в другой литературной традиции. Речь идет об одном выражении, встречающемся в средневековой скандинавской литературе. Оговоримся сразу, что для его анализа не менее ценен древнерусский материал, особенно упоминание лютого зверя в «Поучении» Владимира Мономаха.
В древнеисландских и древненорвежских текстах существует устойчивое сочетание óarga (úarga) dýr, где dýr означает ‘зверь’, a óarga (úarga) есть не что иное, как отрицательная форма прилагательного argr/ragr, которая может быть переведена как ‘нетрусливый, бесстрашный, неробкий, *не немужественный, свирепый, лютый’.
Вместе с тем денотат, скрывающийся за этим устойчивым словосочетанием, как правило, отнюдь не очевиден. Подобно древнерусскому лютому зверю, óarga (úarga) dýr нередко встречается в переводных текстах. Казалось бы, здесь его значение должно быть вполне определенным. Однако и в древнеисландских переводах мы сталкиваемся, в сущности, с тем же кругом проблем, что и в переводных древнерусских текстах.
На первый взгляд, может показаться, что óarga (úarga) dýr в скандинавских переводных памятниках — это лев. При этом, однако, необходимо помнить как о специфике древнеисландских переводов в целом, так и об экзотичности льва для скандинавских книжников. Собственно говоря, все, что мы находим в исландских и норвежских рукописях ХII-ХIII вв., это не перевод инокультурных текстов (будь то Библия или рыцарские романы), а, скорее, их вольное переложение, пересказ в русле автохтонной (по преимуществу саговой) традиции. В частности, библейская терминология нередко передавалась с помощью слов, обозначающих некие реалии, присущие собственно скандинавской культуре.
Стратегия рассказчика-переводчика могла быть достаточно различной: в каких-то деталях он бывал точен, но далеко не всегда заботился о прямом соответствии понятия, стоящего за библейским термином, и того, что стояло за избранным им исландским словом. Точно так же составитель переводного текста не всегда заботился о буквальном и строгом соответствии сюжета своего рассказа сюжету оригинала. Кроме того, подобные переводы-пересказы иногда делались непосредственно с латыни, а иногда в качестве источника мог фигурировать древнеанглийский перевод латинского текста, уже прошедший один виток культурной ассимиляции.
Однако наша уверенность в том, что в древнеисландских сочинениях, возникших под влиянием континентальных образцов, лютый [неробкий] зверь — это всегда лев, ослабляется, например, эпизодом из поздней «Саги о Мирманне», где герой видит лютого зверя (óarga dýr) во сне. Описание этого существа достаточно точно соответствует тому, как должна вести себя пантера, — разумеется, не реальная пантера, а пантера из «Физиолога» и прочих бестиариев [7. S. 103-104]. Зверь, оказавшийся самкой, источает сладостный аромат и, вопреки ожиданию героя саги, не причиняет ему никакого вреда, но, напротив, ведет себя весьма дружелюбно [14. S. 205].
Таким образом, и в текстах, имеющих инокультурные источники, лютый зверь — это по преимуществу лев, но так может быть назван и другой крупный, экзотический для скандинавов хищник. Весьма существенно, что в древнеисландском языке (точно так же, как и в древнерусском) существовал и был достаточно распространен термин, обозначающий собственно льва. Это — заимствованная лексема 1е6[п], которое охотно употреблялось в тех же переводных, и не только переводных, текстах. Иными словами, говоря о животном, которое в Библии названо львом, исландский или норвежский составитель текста мог употребить как leó, так и описательное лютый [неробкий] зверь.
Порой в различных рукописях одного и того же текста фигурирует то лютый [неробкий] зверь, то лев (см., например, редакции A (óarga dýr) и В (leó) «Саги о Конраде» [10. S. 61; 11. Р. 53]; ср.: [7. S. 100]). Можно допустить, что в этих случаях перед нами разные стратегии составителя текста: иногда рассказчик точно передавал библейское слово, а иногда для его повествования важнее оказывалось столкновение героя со свирепым хищником, с некоторым олицетворением хищности вообще. Такое допущение вполне возможно, если вспомнить, что лев как таковой был для скандинавов в большей степени олицетворением, символом хищного зверя, нежели реальным животным. Львов — в отличие от медведей, волков и диких кошек — ни в Норвегии, ни тем более в Исландии не было.
С другой стороны, общеевропейская культурная традиция, где лев служит весьма распространенной аллегорией, была скандинавам хорошо известна не только из латинских или англосаксонских сочинений, но и из изображений, прежде всего геральдических, на щитах, гербах, зданиях и воротах. Словом, выражение лютый [неробкий] зверь может появляться в текстах, возникших под непосредственным влиянием книжной традиции, как обозначение хищника, не слишком известного скандинавам и явно фигурирующего в тексте как аллегорический персонаж. Сходным образом, по-видимому, могли называться и столь же экзотические для скандинавов пантера или леопард, которые обладали близким функциональным статусом в литературе и геральдике. Во всяком случае, даже в переводных сочинениях словосочетание óarga (úarga) dýr никак нельзя счесть терминологическим обозначением льва.
Обращение к древнеисландским и древненорвежским памятникам, возникшим под прямым влиянием континентальной литературной или энциклопедической традиций, приводит нас к выводу о том, что отождествление óarga (úarga) dýr с каким-либо конкретным хищником невозможно на уровне всего корпуса подобного рода текстов, а на уровне отдельно взятого текста такое отождествление возможно, но не обязательно. В самом деле, в ряде случаев можно указать, какой именно хищник мог бы быть отождествлен с лютым [неробким] зверем. Однако даже тогда мы не знаем, насколько подобное отождествление подразумевалось самим составителем текста. При этом нельзя забывать, что сочетание óarga (úarga) dýr в западноскандинавской литературной традиции обладало несомненной лексической целостностью. Иными словами, им обозначался не только зверь, наделяемый какими-то качествами, но и некоторое олицетворение этих звериных качеств, воплощение свирепости или лютости.
С лютым, зверем могли связываться те символические и аллегорические функции, носителем которых в европейской традиции чаще всего выступает лев. Однако нельзя забывать и о том, что как раз эти символические функции едва ли способствуют противопоставлению, например, льва и барса, льва и леопарда, льва и пантеры. Каждый из этих хищников в культуре наделен целым рядом специфических характеристик и целым рядом характеристик совпадающих. В северных странах поздней христианизации, таких, как Русь и Скандинавия, составитель текста вовсе необязательно должен был путать экзотических животных, обладавших особым, так сказать, семиотическим статусом в усваиваемой им культурной традиции. Он мог, как уже говорилось, в иных случаях называть их вполне определенным заимствованным термином, а мог применять усиливающий их символическую роль обобщенное словосочетание.
Практически всякий раз, когда составитель сталкивался в инокультурном тексте с упоминанием, например, льва, он обнаруживал, что речь идет не о животном, а о символе жестокости, свирепости или, напротив, властности, царственного могущества. Символический смысл, таким образом, оказывался для него куда более конкретным, куда более «реальным», чем смысл буквальный, зоологический. Иными словами, медведь для средневекового норвежского автора легко превращался в аллегорию, тогда как лев существовал для него в качестве аллегории изначально. Аллегорический, символический смысл являлся здесь первичным и, в известной мере, решающим.
Устойчивое выражение лютый [неробкий] зверь прекрасно подходило для передачи символического смысла, стоящего за инокультурными названиями льва, леопарда, барса, пантеры и т.д. Можно допустить, что для скандинавского книжника лютый зверь — это животное-символ, животное-иносказание. Не случайно в отдельных текстах, связанных с собственно скандинавскими событиями, лютый зверь часто фигурирует в вещих снах и предсказаниях, где он может олицетворять духа-хранителя правящего конунга или служить аллегорией его правления.
Так, в «Саге о Хрольве» шведской королеве Ингигерд снится сон, в котором стаей волков предводительствуют медведь и лютый зверь (hit óarga dýr). Истолковывая сновидение, королева решает, что ‘неробкий зверь’ — это дух-хранитель (fylgja) конунга Хрольва Гаутрекссона, а медведь — дух-хранитель его побратима Ингьяльда. По дружелюбному внешнему виду и поведению этих животных она пытается определить, какие намерения — воинственные или мирные — заставили Хрольва прийти в Швецию. В другом сне королевы Ингигерд появляются сбегающая с кораблей стая волков, которой предводительствует лютый зверь, два медведя и огромный вепрь. Из этого сна королева заключает, что конунг Хрольв и его люди собираются напасть на ее государство [15. S. 13, 21].
В другой саге, описывающей события первой половины XII в., норвежский конунг Сигурд Крестоносец, который, к слову, был женат на родной внучке Владимира Мономаха, приезжает в Константинополь (Миклагард). Там он слышит предсказание своей судьбы. Это предсказание гласит: слава и почет Сигурда конунга будут расти подобно ‘неробкому зверю’, который широк (силен) в плечах, но уменьшается к задней своей части (sva mondi fara virping S. konvngs sem it varga dyr er vaxet. geyst ibogonom oc aptr miNa) [16. S. 351]. В этом тексте, возникшем на собственно скандинавской почве, зрительный образ, стоящий за словосочетанием лютый [неробкий] зверь, может быть более-или менее определенно отождествлен со львом. Можно допустить, что рассказчик употребляет именно данное выражение, а не однозначное leó[n] «лев», отчасти потому, что оно в большей мере отвечает аллегорическому характеру описания и ситуации предсказания как такового. Любопытно при этом, что пророчество услышано Сигурдом в Константинополе, т.е. в городе, столь тесно связанном для скандинавов и с символической традицией христианства, и со всевозможной экзотикой. Константинополь, в частности, является излюбленным местом действия фантастических саг, где с героями происходят самые невероятные события.
Итак, в текстах, созданных под непосредственным воздействием инокультурной традиции, и в текстах, где это воздействие усвоено и переработано, лютый [неробкий] зверь — это животное-символ, животное-аллегория, легче и чаще всего отождествляемое со львом, но вовсе не обязательно таковым являющееся. До сих пор мы все время оговаривали, что наши примеры взяты из текстов, возникших после длительного контакта с христианской энциклопедической традицией. В известном смысле все они, так или иначе, с ней связаны. Лютый зверь появляется в тех фрагментах текста, где подобная связь наиболее очевидна. Тем не менее, есть несколько обстоятельств, мешающих утверждать, что выражение лютый зверь как таковое возникло именно для передачи инокультурной реалии в текстах, сложившихся под внешним влиянием.
Могло ли выражение лютый [неробкий] зверь изначально появиться в языке как название для книжного, по преимуществу аллегорического существа, или оно уже существовало в готовом виде, а впоследствии удачным образом подошло для употребления в литературных пересказах и памятниках книжной традиции? Точно такой же вопрос встает и в отношении древнерусского словосочетания лютый зверь. В самом деле, обобщающий характер этих именований весьма удачен для обозначения животных-символов, однако напомним, что и у скандинавов, и у русских были в ходу и другие лексические средства для обозначения льва, барса, пантеры, грифона… В качестве обозначения символического хищника слово leó[n]/»лев» и обозначение óarga dýr/лютый зверь в одинаковой мере являются принадлежностью книжного языка. Однако всегда ли выражения óarga (úarga) dýr и лютый зверь обозначали лишь таких символических существ?
Весьма специфическая скандинавская описательная конструкция с отрицательной формой прилагательного наводит на мысль о том, что перед нами либо калька с соответствующего выражения из какого-либо языка средневековой европейской культуры, либо автохтонное эвфемистическое именование, пришедшее в письменную культуру из устной традиции. С учетом культурного параллелизма обозначений óarga (úarga) dýr и лютый зверь самой соблазнительной является идея кальки с какого-либо третьего, престижного для литературной традиции, языка. Однако на сегодняшний день прототип для подобного калькирования не обнаружен. Поэтому перед нами, скорее всего, автохтонное эвфемистическое обозначение, складывавшееся параллельно в Скандинавии и на Руси, или результат прямого влияния одной из двух традиций на другую.3
Коль скоро мы допускаем, что словосочетания лютый зверь и óarga (úarga) dýr возникают не под воздействием книжной культуры, а существовали и ранее, то история их бытования в языке поневоле должна быть разделена на несколько этапов, а значение этих выражений на разных этапах неизбежно окажется различным. Действительно, в языке, еще не затронутом влиянием письменных инокультурных источников, выражения лютый зверь или óarga (úarga) dýr едва ли могли служить эвфемизмами для обозначения льва или какого-либо другого экзотического хищника (крокодила, барса, пантеры), поскольку ни в Скандинавии, ни на Руси эти звери не водились. В то же время эти словосочетания, по-видимому, обладали неким семантическим потенциалом, позволившим впоследствии использовать их для обозначения различных символических и экзотических для Северной Европы зверей. При таком подходе мы не можем всякий раз приписывать этим выражениям денотаты из книжных текстов. Иными словами, мы не можем утверждать, что на Владимира Мономаха напал лев (лютый зверь) лишь на том основании, что в ряде позднейших текстов выражение лютый зверь при переводе использовалось там, где в оригинале речь шла о льве.
Эвфемистический характер русского словосочетания лютый зверь сам по себе не столь очевиден, хотя в ряде работ такой тезис уже высказывался ([17. С. 193]; ср. [2. С. 68—69]). Здесь оказывается продуктивно его типологическое сопоставление со скандинавским óarga (úarga) dýr, которое в силу большей лексической связанности, а также благодаря структуре, содержащей отрицание, куда более наглядно выдает свою эвфемистическую природу. Тем не менее выяснение того, чем являлось то или иное выражение за пределами письменного языка, разумеется, всегда остается нелегкой задачей. Ведь все, чем мы располагаем при описании интересующей нас эпохи — это письменные тексты. Выражения же óarga (úarga) dýr и лютый зверь с определенного времени находят для себя в литературном языке весьма устойчивую и адекватную функциональную нишу, о которой мы уже говорили.
В этом отношении весьма любопытно функционирование различных компонентов устойчивого словосочетания óarga (úarga) dýr в тех текстах, которые в наименьшей степени связаны с континентальной христианской традицией. Разумеется, удельный вес этих компонентов словосочетания неодинаков: как уже говорилось, прилагательное óarga/úarga употребляется почти исключительно внутри интересующего нас выражения, тогда как слово dýr ‘зверь’, естественно, обладает куда большей свободой сочетаемости. Тем не менее слово dyr входит, помимо интересующего нас óarga (úarga) dýr, и в другие словосочетания, обладающие определенной семантической цельностью.
Начнем, однако, с прилагательного oargr/uargr. Как уже говорилось, оно является отрицательной формой от слова argr/ragr. Само по себе argr занимает совершенно особое место в правовых текстах и в древнескандинавской культуре в целом (о прилагательном argr/ragr подробнее см.: [18. S. 16-29]). Как правило, оно значило ‘трусливый, робкий, немужественный’, но также ‘женоподобный, распутный, лишенный мужского начала (о мужчине)’. Подчеркнем, что в значении ‘трусливый’ слово argr/ragr могло, судя по всему, достаточно свободно употребляться в речи: показательна в этом отношении знаменитая пословица: «Только раб мстит сразу, а трус — никогда» (Þræellinn-einn hefnist, en argr aldri) [19. S. 44].
Любопытно, что значения ‘трусливый’ и ‘распутный, извращенный’, присущие слову argr/ragr в языке, могут то разводиться, то объединяться. По-видимому, argr/ragr считалось качеством, свойственным нечистой силе, воплощению зла, дьяволу. Так, например, в сагах о древних временах злой дух, злая сила названа örg vættr, а в древненорвежской «Книге проповедей» argr употребляется в качестве эпитета дьявола (hinn argi djöfull) [21. S. 198].
Весьма существенно, что для обозначения такого рода воплощения зла могло употребляться и выражение hitt argasta dyr. В этом сочетании присутствует уже знакомое нам слово ‘зверь’ (dýr), а прилагательное argr фигурирует в превосходной степени. Тем самым к злым духам приложим не только эпитет argr/ragr, но и само слово «дух» или «дьявол» может адекватным образом замещаться словом «зверь».
Интересующая нас конструкция употреблена в своего рода заклятии, произнесенном перед употреблением нечистого, неподобающего питья. В саге рассказывается, как несколько исландцев, мучимые жаждой на корабле, вспоминают, что прежде людям приходилось пить в таких случаях мочу, смешанную с морской водой. Один из них, Торгильс, берет сосуд с напитком и произносит заклятие (соответствующее по форме пиршественному тосту). В нем Торгильс обращается к hitt argasta dyr7, который препятствует их путешествию, заявляя, что тому не удастся заставить ни его самого, ни его спутников пить собственную мочу. При произнесении этих слов птица, похожая свиду на гагарку, покидает с отвратительным криком корабль и летит на север. Терпящие бедствие воспринимают это как Божественное предзнаменование, выплескивают напиток за борт и гребут еще некоторое время, после чего находят пресную воду [22. S. 147].
В связи с проблемой лютого [неробкого] зверя весьма показательно употребление прилагательного argr/ragr с названиями конкретных животных. В качестве эпитета argr/ragr часто появляется, когда речь заходит о козе (geit), олицетворявшей в скандинавской традиции как похоть, так и трусость (ср.: [23. Bnd. I. S. 573-574]). В столь же двойственном значении argr/ragr может употребляться, когда характеристики этого животных переносятся на человека. В сагах мы встречаем устойчивый оборот argr/ragr sem geit, который равно мог обозначать ‘похотливый как коза’ и ‘трусливый как коза’.
Качества, обозначаемые эпитетом argr/ragr, считались, по-видимому, неотъемлемыми признаками этого животного. Эпитет «смелая, бесстрашная» мог прилагаться к козе лишь иронически, в насмешку. Так, в родовой «Саге о Бьёрне, богатыре с Хит-реки», рассказывающей о распре между двумя исландцами, один из них, Бьёрн, сочиняет хулительные стихи (nf6vfsa), где, в частности, называет другого, Торда, «отважным как коза» (jafnsnjallr sem geit) [24. S. 46]. Совершенно очевидно, что уподобление козе — оскорбительное само по себе — в данном случае лишь усиливается употреблением оксюморонного эпитета (ср.: [25. С. 481^82; 26. Р. 36-38].
Существенно, что прозвище inn ragi дается человеку со «звериным» именем Refr (Лис). Обращаясь к зоологической семантике имени героя этой поздней саги, нельзя не отметить, что качества, характеризуемые эпитетом argr/ragr, никоим образом не были связаны с лисом или лисицей. В качестве характерных черт им приписывались, скорее, хитрость, изворотливость и коварство (ср. выражение slægr sem refr ‘хитрый как лис’), что и отразилось в другом именовании героя — Хитрый Рэв (Лис) (Króka-Refr).
В определенном смысле значительная часть саги посвящена тому, как герой пытается избавиться от прозвища, семантически с его личным именем никак не связанного (inn ragi), и закрепить за собой то, которое его имени соответствует (krókr). Примеры, когда прозвище семантически продлевает, дополняет, как бы «уточняет» личное имя и во многом этим личным именем обусловлено, не столь уж редки у скандинавов. О конструкциях подобного рода мы будем говорить ниже, в связи с интересующим нас прилагательным óargr.
Даже поверхностный обзор круга значений прилагательного argr/ragr позволяет утверждать, что его дериват, ó(ú)-argr ‘не-argr’, имеет самое непосредственное отношение к кругу табуизируемых слов и «запретных» понятий, прозрачных иносказаний и эвфемистических замен, связанных как с миром людей, так и с миром животных.
Как уже упоминалось, argr/ragr устойчиво связывалось с козой (geit). Собственно говоря, в литературных текстах коза, пожалуй, чаще упоминается как олицетворение трусости и распущенности, нежели как реальное животное. При этом козе, априори являющейся argr/ragr, естественным образом противопоставлен не кто иной, как волк. Мы располагаем, в частности, достаточно древними примерами такого противопоставления. Так, в героических песнях «Старшей Эдды» говорится, что враги также бежали от Хельги, убийцы Хундинга, как козы бегут от волка:
«Так убегали в страхе безмерном
перед Хельги враги и родичи их,
как козы бегут по горным склонам,
страхом гонимы, спасаясь от волка»
(Svá hafði Helgi hrædda görva
fjándr sína alla ok frændr þeira
sem fyr ulfi óðar rynni
geitr af fjalli geiskafullar!)
[30. S 154.’Строфа 37]
Показательно, что отношения между животными нужны здесь ради характеристики отношений между людьми. Можно сказать, что сравнение подобного рода, когда герой уподобляется волку, а противники — убегающим от него козам, «застывает» в качестве своеобразной повествовательной формулы, которая в том или ином виде попадает в поздние саги о древних временах и в такие тексты, как «Сага о Тристане и Изольде», «Сага о Карле Великом» и др. Таким образом, коза в известном смысле постоянно противопоставлена волку, а люди, уподобляемые козам, противопоставлены тем, кто уподобляется волкам. Естественно предположить, что коль скоро с козой связан эпитет argr/ragr, то противоположный эпитет, эпитет-антоним, должен был устойчиво ассоциироваться именно с волком.
Эпитет óargr/úargr за пределами выражения лютый зверь известен в качестве прозвища. Существенно, что обладателем этого уникального прозвища Бесстрашный, Неробкий (óargi), судя по сагам, был человек, носивший личное имя Ульв (Úlfr), т.е. ‘волк’. То обстоятельство, что в его роду волчья семантика имени не была нивелирована, стерта, демонстрируется в рассказе о его внуке, который был назван в его честь Ульвом, а впоследствии получил еще и прозвище «Вечерний». В совокупности его имя и прозвище образовывали сочетание Вечерний Волк (Kveld-úlfr, Квельдульв), которое находит свое объяснение в саге. Рассказывается, что поведение Квельдульва радикально различалось в зависимости от времени суток: «он мог дать добрый совет в любом деле, потому что отличался большим умом, но каждый раз, когда вечерело, он начинал избегать людей… к вечеру он делался сонливым. Поговаривали, что он оборотень…» (Kunni hann til alls góð ráð at leggja, því at hann var forvitri. En dag hvern, er at kveldi leið, þá gerðist hann styggr, svá at fáir menn máttu orðum við hann koma. Var hann kveldsvæfr. Þat var mál manna, at hann væri mjök hamrammr…) [31. S. 2; 32. Т. I. С. 23]9.
Если имя и прозвище внука явным образом осмыслялось как цельное сочетание со значением «Вечерний Волк», то имя и прозвище деда — Úlfr óargi — с большой вероятностью могло трактоваться как «Бесстрашный Волк». Прозвище-эпитет «вечерний» в значительной степени обусловлено, детерминировано именем. Вместе они обозначают оборотня, вервольфа, того, кто вечером оборачивается волком. Естественно предположить, что и прозвище-эпитет óargi также детерминировано собственным именем Волк (Úlfr), т.е. óargr подчеркивает то бесстрашие или ту свирепость, которые свойственны именно волку.
Во всяком случае, такое прозвище не встречается ни при каких других именах, связанных или не связанных с названиями животных. При этом другие прозвища со значением «смелый, храбрый, отважный» (например frækni) были весьма распространены и свободно употреблялись с самыми различными именами. Прозвища деда и внука, таким образом, обретают законченный смысл только в сочетании с их именами. Иными словами, Úlfr óargi является таким же связанным словосочетанием, как и óarga/úarga dýr, только на месте лексемы dýr ‘зверь’ в данном случае оказывается лексема úlfr ‘волк’.
В определенном смысле именование волка «трусливым» являет собой такой же оксюморон, как именование козы «отважной». Как кажется, вопиющая противоречивость сочетания «трусливый волк» обыгрывается в том эпизоде «Саги об Олаве Святом» из «Круга Земного», где речь идет о ссоре конунга Кнута Великого и ярла Ульва, отца будущего правителя Дании Свейна Эстридссона.